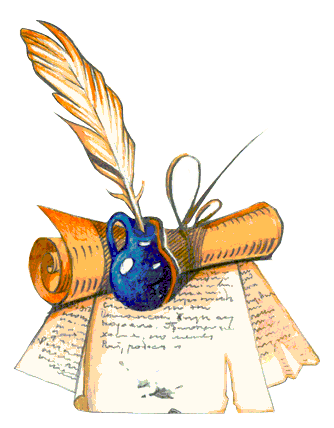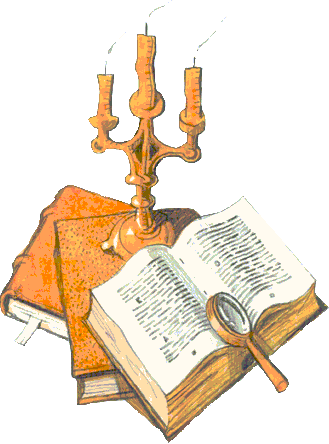Летучий гусар
(из книги «Король чёрный, король белый»)
 Читатели моих записок, любезно размещаемых издателями в журналах, уже, наверное, помнят о перипетиях моих приключений, когда ещё до войны 1812 года я через всю Европу тайно вёз золото и письмо будущему императору Франции Наполеону. Золото, понятно, я доставлял не своё, да и письмо было не от тётушки из Конотопа. Наш монарх – император Павел предлагал в том послании руку дружбы набирающему силу генералу Бонапарту. Естественно, это не могло понравиться нашим вечным друзьям-врагам австрийцам. Так что в пути мне приходилось беречься не только разбойников, которых могло заинтересовать золото, но и австрийской разведки, охочей до чужих секретов.
Читатели моих записок, любезно размещаемых издателями в журналах, уже, наверное, помнят о перипетиях моих приключений, когда ещё до войны 1812 года я через всю Европу тайно вёз золото и письмо будущему императору Франции Наполеону. Золото, понятно, я доставлял не своё, да и письмо было не от тётушки из Конотопа. Наш монарх – император Павел предлагал в том послании руку дружбы набирающему силу генералу Бонапарту. Естественно, это не могло понравиться нашим вечным друзьям-врагам австрийцам. Так что в пути мне приходилось беречься не только разбойников, которых могло заинтересовать золото, но и австрийской разведки, охочей до чужих секретов.
Золото в саквояже, оттягивающее руку, сильно упрощало мою задачу – как можно быстрее проникнуть на остров Корсика, где Наполеон Бонапарт должен был отдыхать после египетского похода. Нанятые откормленные лошади и кучер, подогретый оплатой и чаркой доппель-кюммеля сверх расходов, служили на совесть. Средств я не жалел – особенно когда заметил подозрительную карету, следующую за мной целый день. Пришлось от неё отрываться ночью, бежать как тать. Во весь дух, не останавливаясь ни на час, мчался я в сторону Альп. Мимо мелькали аккуратные, будто стриженые по линейке, луга, квадратики лесов, перпендикуляры развилок, пряничные деревушки. Мы с очередным кучером прошивали эту блажную тишь со скоростью ружейной пули. Не успеет крестьянин, охочий до новостей, отставить в сторону вилы и подойти к каменной ограде взглянуть, чья это повозка тарахтит по булыжной мостовой у ратуши, как мы уже далече и от крестьянина, и от ратуши!
Нанятые лошади бежали всё медленнее и медленнее, дорога то и дело дыбилась, взбиралась вверх – в высокие, поросшие грабом и дубом горы. Вёрсты теперь отмерялись в перегонах между озёрами – Ким-Зее, Тегерн-Зее, Вальхен-Зее, Форген-Зее… И вот в деревушке Вассен о двадцати домах, что, словно стадо потерявшихся овец, сбились в кучку у подножия горы, мой кучер объявил, что дальше дороги нет. Я вышел из повозки, огляделся. Малый был прав: к деревне с окрестных склонов сбегались только козьи тропки. Не торгуясь, поскольку время было важнее денег, я купил у кучера лошадей и оставил несчастного немца тупо созерцать с облучка пустые оглобли.
Ни постоялого двора, ни самой убогой харчевни в деревушке не обнаружилось. Но проводник, на моё счастье, нашёлся.
– Италия, понимаешь? Через горы – самой короткой дорогой! Десять, да чёрт с тобой – одиннадцать золотых плачу! Пять задатком, шесть потом.
Долговязый, сонный, будто сытое порося, парень без интереса взирал на меня и молчал, что-то прикидывая. Я посмотрел на его ноги, обутые в грубые башмаки, на гольфы из толстой шерстяной нити, потёртые на нижних манжетах серые панталоны и простую рубаху навыпуск. Неужели одиннадцать золотых для него мало?
– Послушай! – я хлопнул его по твердому, как сосновое полено, плечу. – Я в горах бывал и много хлопот не доставлю. К тому же у меня есть две лошади.
Теперь проводник перевёл взгляд на моих кобылок. Да уж, красотой они не страдали. У одной опухшие от вечной работы бабки, у другой спина потёрта седлом и копыта, похоже, слоятся. Но чем богаты, тому и рады.
– Хорошо! – кивнул вдруг проводник и, развернувшись ко мне спиной, скрылся в своей хижине.
Это было единственное слово, которое я услышал от этого молчаливого сына гор. Позже на все мои вопросы он либо объяснялся знаками, либо и вовсе ничего не говорил. Он даже имени своего не удосужился назвать. Так что мне пришлось величать его наугад – Францем.
Франц вышел из хижины очень скоро. На голове его появилась щегольская шапочка с пером зелёного отлива, за плечами висела холщовая сумка, из которой выглядывал край тёплой куртки. Палкой, которую он сжимал в ладони, проводник указал мне направление и зашагал вперёд.
– Постой! – крикнул я. – Лошадь-то забыл!
Франц, не оглянувшись, только досадливо махнул рукой. Пришлось мою нестроевую кавалерию отдать кучеру. Он, бедняга, и так принимал меня за убогого, чьей манией была дикая, по его меркам, скорость.
А теперь, когда я сначала купил у него лошадей, а потом вернул, он и вовсе укрепился в своей мысли, что я ненормальный и ему жутко повезло остаться в живых после общения с таким буйным сумасшедшим, что запросто на каком-нибудь перегоне мог перерезать ему горло.
Франц шагал в гору споро, словно засидевшаяся за зиму в хлеве скотинка. Его жилистые ноги так и мелькали на тропинке, усеянной острым щебнем. Казалось, он вовсе и не замечал, что приходится всё время подниматься.
Поначалу я едва поспевал за проводником. Согласитесь, не дело кавалерийского офицера гарцевать по склонам на своих двоих. Но очень скоро, пару раз ушибив ноги о камень и чуть не вывихнув ступню, я понял, что Франц был прав, оставив наших лошадей внизу. Хотя проводник попался мне на редкость молчаливый, но дело своё он знал: топал и топал себе вперёд, как неутомимый оловянный солдатик, дотемна.
На ночлег мы устроились в какой-то пещере, поужинали черствым, подозрительно попахивающим плесенью хлебом и сочным репчатым луком. Огня Франц разводить не стал, что, впрочем, мне было на руку — попасться в руки австрийской пограничной стражи мне вовсе не улыбалось.
В путь Франц поднял меня ни свет ни заря. Нет, гусары – не штабные неженки, они поднимаются рано. Зевая во весь рот, я едва успел отряхнуть плащ, в который был закутан, как пришлось быстро двинуться вслед за растворяющейся в предутреннем тумане фигурой Франца.
Сказать, что мой проводник проявлял мало дружелюбия, было бы слишком большим преувеличением. Такого качества, видно, не водилось у него с рождения. Видя подобную угрюмость, на ночь, на случай нападения, я положил рядом с собой хорошую каменюку. Ещё одна ночь прошла, а Франц не позарился на моё, вернее, вручённое мне золото, и я успокоился. Но бдительности не потерял — Франц не имел привычки оглядываться на спутника, то шагал по тропинке, то вдруг, посмотрев на горные пики, резко сворачивал и двигался вдоль какого-нибудь камнепада, срезая путь одному ему известным способом.
 Трудно описать красоту альпийских лугов, которые раскинулись перед нами утром. Зелёная трава, которая по сочности цвета могла соперничать разве что
с голубым небом, белые, как клавиши фортепиано, эдельвейсы, чёрные камни с зелеными проплешинами лишайников – всё так и просилось на картину художника, пресытившегося знойной натурой Италии.
Трудно описать красоту альпийских лугов, которые раскинулись перед нами утром. Зелёная трава, которая по сочности цвета могла соперничать разве что
с голубым небом, белые, как клавиши фортепиано, эдельвейсы, чёрные камни с зелеными проплешинами лишайников – всё так и просилось на картину художника, пресытившегося знойной натурой Италии.
Однако очень скоро мне стало не до красот. Ноги я сбил в первый же день и очень скоро на себе познал, как чувствует себя лошадь, потерявшая подковы и вынужденная брести по каменистой местности с незащищёнными копытами. Франц тоже, видно, стал подуставать, а может, ему, как и мне, не хватало на высоте воздуха. Мы уже подходили к кромке вечных снегов, когда Франц жестом указал мне на большой плоский камень. Я присел, с удовольствием разминая ноги. Тем временем мой проводник вынул из-за пазухи чистую тряпицу, в которую был завёрнут всё тот же поднадоевший чёрствый хлеб, луковицы, положил эту нехитрую снедь на камень, а рядом, словно бутылку старого бургундского, с гордостью водрузил фляжку с водой.
Не успели мы начать трапезу, как Франц жестом фокусника, в два касания, свернул всю нашу еду в узелок, сунул тот за пазуху, смахнул рукой с камня просыпанные мной хлебные крошки и потянул меня за рукав к ближайшему укрытию. Едва мы успели устроиться в небольшой расщелине, поросшей кривым кустарником с мелкими листочками, как я понял, почему Франц неожиданно прервал наш обед...