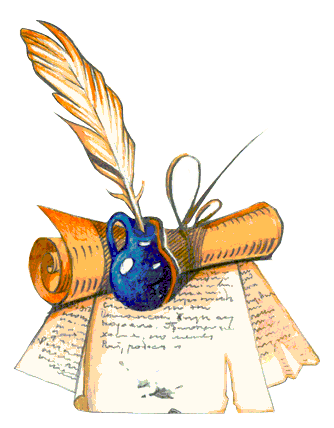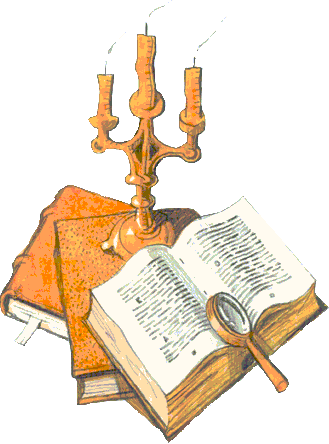Паутина
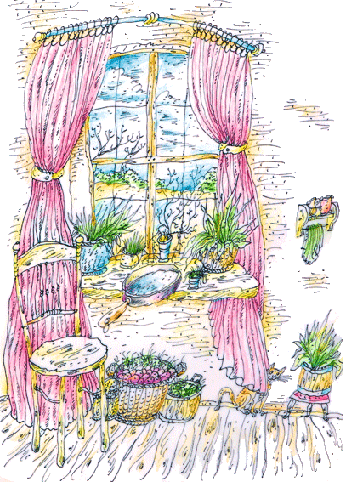 Возможно, никто особенно не задумывался над тем, где оборудовать кухню на ферме, однако её расположение наводило на мысль, что без большого знатока архитектуры фермерского хозяйства дело не обошлось. Словно в обозначенную флагами гавань, сюда легко было попасть и из молочной фермы, и из птичника, и с огорода; здесь всему находилось место, и следы грязи от сапог удалялись без особого труда. Но если кухня и являлась эпицентром человеческой активности, то из длинного, забранного решёткой кухонного окна с широким подоконником, устроенного в проёме стены за огромным камином, открывалась широкая панорама дикой природы: холм, заросли вереска, лесистая лощина. Эта часть кухни
с окном образовывала нечто вроде маленькой комнатки, самой, пожалуй, уютной на ферме с точки зрения положения и перспектив. Молодая миссис Лэдбрак, чей муж только что стал хозяином фермы, перешедшей к нему по наследству, бросала жадные взгляды на этот укромный уголок, а её руки так и чесались сделать его ярким и уютным: поставить здесь вазы с цветами и повесить ситцевые занавески
и полочку-другую со старым фарфором. Пахнущая плесенью гостиная, окнами выходящая в тщательно ухоженный, безрадостный сад, замкнутый высокими глухими стенами, была не той комнатой, которая располагала бы к отдыху или пробуждала бы желание её украсить.
Возможно, никто особенно не задумывался над тем, где оборудовать кухню на ферме, однако её расположение наводило на мысль, что без большого знатока архитектуры фермерского хозяйства дело не обошлось. Словно в обозначенную флагами гавань, сюда легко было попасть и из молочной фермы, и из птичника, и с огорода; здесь всему находилось место, и следы грязи от сапог удалялись без особого труда. Но если кухня и являлась эпицентром человеческой активности, то из длинного, забранного решёткой кухонного окна с широким подоконником, устроенного в проёме стены за огромным камином, открывалась широкая панорама дикой природы: холм, заросли вереска, лесистая лощина. Эта часть кухни
с окном образовывала нечто вроде маленькой комнатки, самой, пожалуй, уютной на ферме с точки зрения положения и перспектив. Молодая миссис Лэдбрак, чей муж только что стал хозяином фермы, перешедшей к нему по наследству, бросала жадные взгляды на этот укромный уголок, а её руки так и чесались сделать его ярким и уютным: поставить здесь вазы с цветами и повесить ситцевые занавески
и полочку-другую со старым фарфором. Пахнущая плесенью гостиная, окнами выходящая в тщательно ухоженный, безрадостный сад, замкнутый высокими глухими стенами, была не той комнатой, которая располагала бы к отдыху или пробуждала бы желание её украсить.
– Когда мы получше устроимся, и я начну обживать кухню, её будет не узнать, – говорила она своим редким посетителям. В этих словах, однако, звучало затаённое желание, желание, которое она не только не хотела высказывать, но и в котором не могла признаться сама себе. Эмма Лэдбрак была хозяйкой фермы; совместно с мужем она имела право голоса и, до определённой степени, свободу действий во всех вопросах, связанных с деятельностью на ферме. Но на кухне она не распоряжалась.
На одной из полок старого кухонного стола, рядом с выщербленными соусницами, оловянными кувшинами, тёрками для сыра и оплаченными счетами лежала старая потрёпанная Библия, на титульном листе которой выцветшими от времени чернилами стояла дата крещения, совершённого девяносто четыре года назад, и рядом на пожелтевшей странице было выведено имя «Марта Крейл». Сморщенная пожелтевшая старуха, с трудом ковылявшая по кухне, вечно брюзжащая и выглядевшая как мёртвый осенний лист, который продолжали кружить зимние ветры, когда-то звалась Мартой Крейл, а последние семьдесят с лишним лет её знали как Марту Маунтджой. Никто не мог припомнить, сколько лет она шлёпала от очага к прачечной и молочной ферме, а затем дальше, к птицеводческой ферме и в сад, брюзжа, ворча и бранясь, но ни на секунду не прекращая работу. Эмма Лэдбрак, чьё появление вызвало у неё столь же мало интереса, как если бы это была пчела, в летнюю пору влетевшая в окно, поначалу смотрела на неё с испуганным любопытством. Она была такой древней и до такой степени сросшейся с этим местом, что её трудно было воспринимать как живое существо. Старый Шеп, поседевший, страдающий от артрита колли, ждущий, когда за ним придёт смерть, казался чуть ли не более человечным, чем эта сморщенная высохшая старуха. Он был шумливым буйным щенком, переполняемым безудержной радостью жизни, когда она уже прихрамывала и её походка утратила былую твёрдость; он успел состариться и ослепнуть, а её слабые силы всё ещё позволяли ей убирать, печь и стирать, собирать и таскать. Если от этих старых мудрых псов оставалось нечто, не исчезающее абсолютно после их кончины, размышляла Эмма, сколько же поколений духов-собак, которых Марта выращивала, кормила и воспитывала и которым на этой же старой кухне говорила слова прощания, должно было обитать на окрестных холмах. А какие воспоминания у неё, должно быть, сохранились о поколениях людей, которых она пережила. Не только постороннему человеку, вроде Эммы – кому угодно трудно было заставить её разговориться о прошлом; а когда раздавался её резкий вибрирующий голос, причиной тому были незакрытые двери, не на месте поставленные вёдра, не вовремя покормленные телята и прочие мелкие недочёты, которыми пестрит рутина фермерской жизни. Время от времени, с началом очередной избирательной кампании, она извлекала из глубин памяти имена, вокруг которых в былые дни кипели баталии. Одним из таких имён был Палмерстон, знаменитость, жившая в окрестностях Тивертона1; по прямой до Тивертона было не так уж и далеко, но для Марты это было почти иностранное государство. Потом были Нордкоты и Окленды и многие другие, чьи имена уже вылетели у неё из головы, но это всегда были либералы и тори, жёлтые и голубые. И они всегда ссорились и спорили о том, кто прав, а кто нет. Больше всего они ссорились относительно представительно выглядевшего пожилого сердитого джентльмена, чей портрет она видела на стенах. Впрочем, ей доводилось видеть его и на полу, с размазанным по его лицу гнилым яблоком, – на ферме политические предпочтения время от времени менялись. Сама Марта никогда не принимала ничьей стороны, – никто из «них» не сделал для фермы хорошего ни на грош. Таков был её решительный приговор, вынесенный со всем деревенским недоверием к окружающему миру.
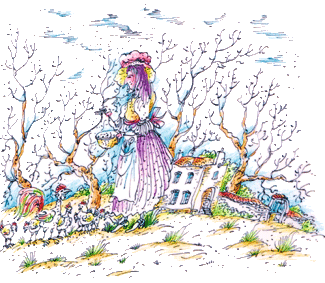 Когда реакция полуиспуга-полулюбопытства отчасти прошла, Эмма Лэдбрак, к своему неприятному изумлению, поймала себя на другом чувстве, которое она испытывала к этой старухе. Она принадлежала к какой-то непонятной старой местной традиции, являлась неотъемлемой частью самой фермы, была, одновременно, трогательной и живописной, – но при этом по-своему страшной. Эмма приехала на ферму полная планов, ей хотелось воплотить в жизнь массу мелких улучшений и новшеств, что было, отчасти, результатом знакомства с новыми методами и способами хозяйствования, отчасти порождением её собственных идей и фантазий. Однако реформы на кухне, если даже предположить, что эту глуховатую старуху удалось бы уговорить их выслушать, были бы встречены короткой отповедью и презрительной усмешкой, – а ведь кухня несла ответственность и за молочной ферму, и за рыночную деятельность и вообще за добрую половину работ на ферме. Вооруженная новейшими сведениями по разделке птицы, Эмма могла лишь наблюдать за тем, как Марта готовила цыплят к продаже на рынке, следуя при этом той же методике, что и предыдущие без малого восемьдесят лет – только ножки и никаких грудок. И сотни предложений относительно более эффективной, облегчающей труд очистки и прочих полезных и здоровых вещей, которыми молодая женщина была готова поделиться и претворить в жизнь, застревали у неё в горле в присутствии этого болезненного, ворчливого, незаметного создания. И, помимо всего прочего, желанное окно, которому предназначалось быть весёлым и приятным оазисом на этой старой запущенной кухне стояло заставленное и загромождённое всяким хламом, который Эмма при всей своей номинальной власти не решалась убрать; и везде здесь ощущалось присутствие какой-то защиты, напоминающей сплетённую человеком паутину. Марта явно знала, что делала. Было бы недостойно и низко желать укоротить эту отважную старую жизнь на жалкие несколько месяцев, однако дни шли за днями, и Эмма начала понимать, что желание, хоть и отвергнутое, никуда не исчезло, притаившись на задворках сознания.
Когда реакция полуиспуга-полулюбопытства отчасти прошла, Эмма Лэдбрак, к своему неприятному изумлению, поймала себя на другом чувстве, которое она испытывала к этой старухе. Она принадлежала к какой-то непонятной старой местной традиции, являлась неотъемлемой частью самой фермы, была, одновременно, трогательной и живописной, – но при этом по-своему страшной. Эмма приехала на ферму полная планов, ей хотелось воплотить в жизнь массу мелких улучшений и новшеств, что было, отчасти, результатом знакомства с новыми методами и способами хозяйствования, отчасти порождением её собственных идей и фантазий. Однако реформы на кухне, если даже предположить, что эту глуховатую старуху удалось бы уговорить их выслушать, были бы встречены короткой отповедью и презрительной усмешкой, – а ведь кухня несла ответственность и за молочной ферму, и за рыночную деятельность и вообще за добрую половину работ на ферме. Вооруженная новейшими сведениями по разделке птицы, Эмма могла лишь наблюдать за тем, как Марта готовила цыплят к продаже на рынке, следуя при этом той же методике, что и предыдущие без малого восемьдесят лет – только ножки и никаких грудок. И сотни предложений относительно более эффективной, облегчающей труд очистки и прочих полезных и здоровых вещей, которыми молодая женщина была готова поделиться и претворить в жизнь, застревали у неё в горле в присутствии этого болезненного, ворчливого, незаметного создания. И, помимо всего прочего, желанное окно, которому предназначалось быть весёлым и приятным оазисом на этой старой запущенной кухне стояло заставленное и загромождённое всяким хламом, который Эмма при всей своей номинальной власти не решалась убрать; и везде здесь ощущалось присутствие какой-то защиты, напоминающей сплетённую человеком паутину. Марта явно знала, что делала. Было бы недостойно и низко желать укоротить эту отважную старую жизнь на жалкие несколько месяцев, однако дни шли за днями, и Эмма начала понимать, что желание, хоть и отвергнутое, никуда не исчезло, притаившись на задворках сознания.
Всю низость этого желания, равно как и угрызения совести, она особенно сильно ощутила в тот день, когда зашла в обычно оживлённую кухню и застала там неожиданную картину. Старая Марта ничего не делала. Корзина с зерном стояла на полу рядом с ней, а со стороны птичника доносился недовольный гомон его обитателей, протестующих против просроченного времени кормёжки. Однако Марта мешковато сидела, съёжившись, на подоконнике, и глядела наружу с таким выражением, словно её подслеповатые старые глаза видели там нечто совсем иное, чем заурядный осенний пейзаж...
Перевёл с англ. Андрей КУЗЬМЕНКОВ