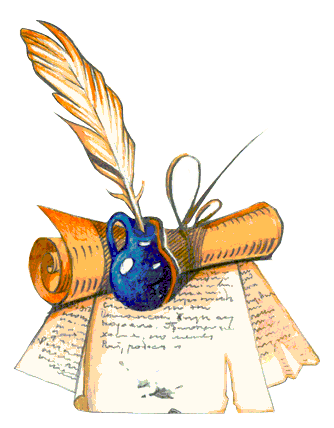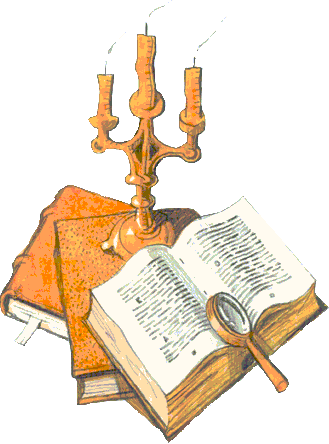На время войны
(отрывок)

Преподобный Уилфрид Гэспильтон был переведён из довольно престижного прихода св. Луки в Кенсингейте в отдалённый до неприличия сельский приход св. Чаддокса где-то в Йондершире; произошло это в ходе очередной миграции церковнослужителей, причины которой мирянскому уму всегда представляются непостижимыми. Что касается самого переезда, то в нём, помимо очевидных и весьма весомых преимуществ, имелись и неоспоримые недостатки. Ни перемещённый клирик, ни его жена не сумели легко и непринуждённо вписаться в реалии деревенской жизни. Берил — миссис Гэспильтон — всегда свысока посматривала на деревню, полагая, что там люди с безупречными доходами и развитыми гостеприимными инстинктами культивируют теннисные лужайки, розовые сады и парки а-ля король Яков I, а в уикенд развлекается избранное общество интересных гостей. Миссис Гэспильтон считала себя, безусловно, интересной особой и, в некотором смысле, она была не так уж и неправа. У неё были тёмные с поволокой глаза и приличный подбородок, совершенно, впрочем, не сочетавшиеся с чуть заунывными интонациями, которые она при всяком удобном случае подпускала в свою речь. Миссис Гэспильтон вполне устраивали выпавшие на её долю скромные житейские блага, однако имелся повод посетовать на Судьбу, которая могла бы преподнести ей нечто большее, сообразуясь с тем потенциалом, который она ощущала в себе. Ей бы хотелось находиться в центре литературного, с лёгким уклоном в политику, салона, где проницательные подхалимы по достоинству оценили бы широту её взглядов на дела рук человеческих и несомненную изящность её ног.
Провидение, однако, предназначило ей стать супругой приходского священника, а сейчас, в дополнение к этому, определило деревенский дом в приходе в качестве постоянной резиденции. Она сразу решила, что окружающая среда не входит в сферу её интересов; Ной хоть и предсказывал потоп, но никто и предположить не мог, что ему придется бороздить его воды. Ковыряться в сырой земле в огороде или бродить по грязным тропинкам совершенно не устраивало миссис Гэспильтон. Если в нужное время в саду росла спаржа и цвели гвоздики, она с готовностью вспоминала о нём, если нет — начисто забывала о его существовании. Она закрылась, если так можно сказать, в своем собственном утончённо-праздном мирке, ненадолго покидая его лишь затем, чтобы изысканно нагрубить жене доктора или неторопливо продолжить свои литературные занятия — работу над «Запретным водопоем», переводом романа Баптиста Лепоя «L’Abreuvoir interdit». Этот труд настолько затянулся, что стали возникать опасения, как бы Баптист Лепой не вышел из моды раньше, чем будет завершен перевод его стяжавшей сиюминутную славу книги. Однако даже этот неспешный процесс помог миссис Гэспильтон заслужить определённую литературную репутацию в кенсингейтских кругах, — и должен был вознести её на вершину славы в приходе св. Чаддокса, где вряд ли кто читал по-французски, а уж о «L’Abreuvoir interdit» наверняка и слыхом не слыхивали.
Жена пастора могла позволить себе самодовольно повернуться спиной к деревенским реалиям; трагедия пастора заключалась в том, что деревенские реалии сами повернулись к нему спиной. Имея самые лучшие намерения и пример Гилберта Уайта (1) перед глазами, преподобный Уилфрид томился назначением и чувствовал себя на новом месте столь же неуютно, как набожный католик Карл II, окажись тот на современном съезде уэслианцев-реформаторов. Птицы прыгали по его лужайке так, словно это была их, а не его лужайка и всем своим видом недвусмысленно давали ему понять, что он интересовал их несравненно меньше, чем садовый червяк или пасторский кот. Живая изгородь и луговые цветы казались ему одинаково непримечательными, чистотел малый представлялся абсолютно недостойным внимания, которое оказывали ему английские поэты, и пастор нисколько не сомневался, что с тоски бы умер, проведя в его компании хотя бы четверть часа. Не лучше дело обстояло и с прихожанами; знакомство с ними означало всего лишь знакомство с их недомоганиями, а их недомоганиями неизменно были ревматические боли. Разумеется, кое-кто страдал и другими телесными недугами, но это никогда не исключало присутствия ревматизма. Пастор ещё не усвоил тот факт деревенской жизни, что жить в глубинке и не страдать ревматизмом — упущение не менее серьёзное, чем для иного аристократа-честолюбца не быть представленным ко двору. И тут ещё Берил отгородилась ото всего со своим нелепым переводом «Запретного водопоя», словно иных проблем было мало.
— Не понимаю, с чего это ты вдруг вообразила, что кому-то захочется почитать Баптиста Лепоя по-английски, — заметил однажды утром преподобный Уилфрид, увидев свою жену сидящей, как обычно, среди разбросанных в элегантном беспорядке словарей, авторучек и листов писчей бумаги. — Его-то и во Франции сейчас не читают.
— Мой дорогой, — кротко отозвалась Берил с усталостью в голосе, — разве в двух или трёх крупнейших лондонских издательствах не выразили удивления, что до сих пор никто не удосужился перевести «L’Abreuvoir interdit» и не просили меня…
— Издателям всегда не терпится получить ещё не написанную книгу, но стоит её закончить, как они тут же начинают нос воротить. Живи апостол Павел в наши дни, лондонские издатели донимали бы его просьбами написать Послание к Эскимосам, но никто не удосужился бы прочитать его Послание к Ефесянам.
— У нас в саду где-нибудь растет спаржа? — спросила Берил. — Я велела поварихе…
— Не где-нибудь в саду, — огрызнулся пастор, — а на своём обычном месте, на грядке со спаржей, и там её, без сомнения, более чем достаточно.
Он отправился туда, где растут плодовые деревья и овощи на грядках и где чувство раздражения рано или поздно сменяется банальной скукой. И там, среди кустов малины, под сенью мушмулы его посетила соблазнительная мысль сотворить грандиозную литературную подделку.Спустя несколько недель в выходящем каждые два месяца журнале «Бимансли Ревю» появились отрывки персидского стихотворения, которое, по заверению преподобного Уилфрида Гэспильтона, обнаружил и перевёл его племянник, в настоящее время воевавший где-то в долине Тигра. У преподобного Уилфрида и впрямь было немало племянников, и один или несколько, вполне вероятно, могли находиться на военной службе в Месопотамии; впрочем, какой именно племянник является знатокам персидского никто так и не сумел вспомнить.
Стихи приписывались некоему Гурабу, охотнику или, по другим сведениям, смотрителю царских прудов, жившему неизвестно когда в окрестностях Керманшаха. Стихи дышали уравновешенной сатирой и философией, в них чувствовались ирония, не превращавшаяся в горечь, и упоение радостями жизни, не настолько сильное, впрочем, чтобы смущать читателя.
Аллаха мышь о помощи молила
Её не получила, возроптав.
А кошка, что ту мышку изловила,
Возликовала: «Как, Аллах, ты прав!»
Создал Аллах незыблемый закон.
Молить Его о помощи — зря плакать.
Не забывай средь жизненных препон,
Что прыть тебе дарована — и лапы.
Кому-то мил удел середняка.
Но преходящи счастье и гордыня.
Довольна жаба, плещется — пока
Канава не иссохнет, как пустыня.
«О нет, я не пойду дорогой в ад», –
Иной смеётся. Я ж ему замечу:
«Хвастун, поворотись скорей назад,
Что, если ад идет тебе навстречу?»
Один поэт воспел Вечернюю Звезду,
Другой восславил крылья попугая,
Купец пел песню своему плоду,
По крайней мере, толк в нём понимая.
Именно последнее четверостишье давало критикам и комментаторам намёк на возможную дату его написания; попугай, не преминули они напомнить читателям, вошёл в моду как символ утонченности в дни Гафиза Ширази; в катренах Омара Хайяма он уже не встречается.
Следующий стих, посвящённый политическим реалиям времени его создания, и в наши дни, как отмечалось особо, не утратил своей актуальности...

Перевёл с англ. Андрей КУЗЬМЕНКОВ
(1) Гилберт Уайт, англиканский епископ (1859 –1933), прослуживший 25 лет в австралийской глубинке.