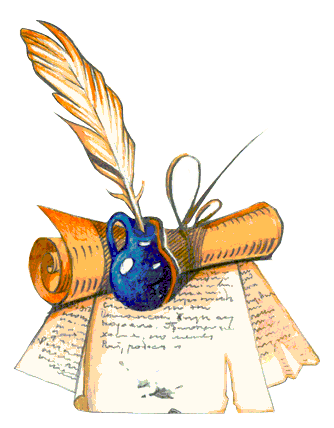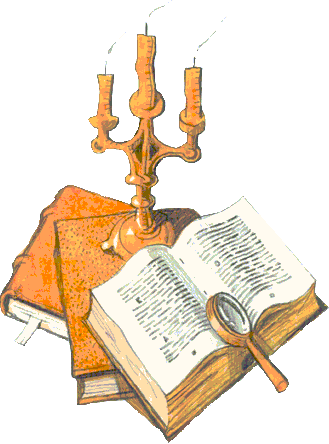На пробу
(отрывок)
 Из всех настоящих богемцев, которые время от времени забредали в полубогемную компанию, собиравшуюся в ресторане «Нюрнберг», что на Аул-стрит, в Сохо, Гебхард Нопфшранк вызывал наибольший интерес и наибольшие сомнения. Никто не мог назвать себя его другом, и хотя он обращался со всеми завсегдатаями ресторана как со своими знакомыми, это знакомство, казалось, не простиралось дальше дверей, ведущих на Аул-стрит и потом в мир. Со всеми он вёл себя примерно так же, как рыночная торговка, демонстрирующая случайным прохожим свои товары и болтающая о погоде, падении спроса, иногда о ревматизме, но никогда не выказывающая желания заглянуть в их ежедневную жизнь или принять близко к сердцу их чаяния.
Из всех настоящих богемцев, которые время от времени забредали в полубогемную компанию, собиравшуюся в ресторане «Нюрнберг», что на Аул-стрит, в Сохо, Гебхард Нопфшранк вызывал наибольший интерес и наибольшие сомнения. Никто не мог назвать себя его другом, и хотя он обращался со всеми завсегдатаями ресторана как со своими знакомыми, это знакомство, казалось, не простиралось дальше дверей, ведущих на Аул-стрит и потом в мир. Со всеми он вёл себя примерно так же, как рыночная торговка, демонстрирующая случайным прохожим свои товары и болтающая о погоде, падении спроса, иногда о ревматизме, но никогда не выказывающая желания заглянуть в их ежедневную жизнь или принять близко к сердцу их чаяния.
Известно было лишь, что его родители занимались фермерством где-то в Померании, а сам он два года назад оставил почтенную профессию свинопаса и гусевода и, решив попытать счастья на ниве изобразительного искусства, отправился в Лондон.
— Почему именно в Лондон, а не в Париж или Мюнхен? — интересовались у него любопытные.
Оказывается, из Столпмюнде в Лондон дважды в месяц отправлялся пароход. Пассажиров на нём было немного, но и билеты стоили недорого, тогда как цены на железнодорожные билеты в Париж или Мюнхен кусались. Именно поэтому он и выбрал Лондон в качестве будущего места своей деятельности.
Завсегдатаев «Нюрнберга» давно и всерьёз интересовало, являлся ли этот гусятник-мигрант вдохновенным гением, расправляющим к славе свои крылья или же предприимчивым юнцом, вообразившим, что умеет рисовать, и под этим благовидным предлогом сбежавшим от однообразия песчаных равнин Померании, усеянных свиными стадами и диеты из ржаного хлеба. Для сомнений и осторожности имелись веские причины. Среди собиравшейся в ресторанчике артистической молодёжи было слишком много короткостриженых девушек и юношей с длинными волосами, считавших себя необычайно одарёнными в области музыки, поэзии, живописи или сценического искусства, и, однако же, почти ничем или вовсе ничем не подтвердивших свои притязания на одарённость. Неудивительно поэтому, что всякий, кто появлялся в этой среде и объявлял себя в чём-либо гениальным, немедленно попадал под подозрение. Но, с другой стороны, всегда существовала опасность случайно не разглядеть ангела во плоти и ненароком обидеть небожителя. Все хорошо помнили Следонти, драматического поэта, которому был оказан весьма холодный приём на Аул-стрит и которого впоследствии назвал выдающимся мастером сам великий князь Константин Константинович, «образованнейший из Романовых», как отзывалась о нём Сильвия Страббл; впрочем, слушая её, можно было подумать, что она накоротке знакома со всеми членами российской императорской семьи, хотя на самом деле она всего лишь знала корреспондента газеты, который поедал борщ с таким видом, словно сам придумал рецепт. «Стихи смерти и страсти» Следонти продавались тысячами экземпляров, издавались на семи европейских языках и готовились к переводу на сирийский, что заставило нюрнбергских арбитров изящества прикусить языки и впредь не спешить с вынесением вердиктов.
Что же касается работ самого Нопфшранка, познакомиться с ними и дать им оценку могли все желающие. Сколь бы решительно он не отстранялся от общественной жизни своих ресторанных знакомых, скрывать от их любопытных взглядов свои художественные достижения определённо не входило в его планы. Ежедневно — или почти ежедневно, — примерно в семь часов вечера, он появлялся в ресторане, усаживался за свой любимый столик, бросал пухлую чёрную папку на свободный стул, одним небрежным кивком головы приветствовал по кругу сидящих в ресторане приятелей и с серьёзным видом приступал к процессу еды ипития. Добравшись до кофе, он зажигал сигарету, придвигал папку и начинал рыться в ней. Неспешными, точно рассчитанными движениями, он выуживал из неё свои недавние наброски и этюды и, сохраняя полное молчание, пускал их по столам, особое внимание уделяя тем из посетителей, кого видел здесь впервые. Оборот каждого этюда украшала разборчивая надпись «Цена десять шиллингов».
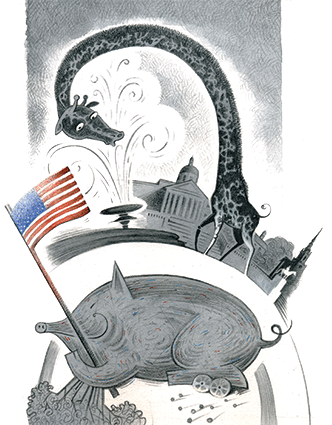 Если его работы и не были отмечены очевидной печатью гениальности, то их тематика была весьма неожиданной, пускай и несколько однообразной. На этих рисунках неизменно изображалась всем известная улица или популярное место в Лондоне, полуразрушенное и населённое, вместо исчезнувших представителей человеческой расы, дикими зверями, которые, судя по разнообразию экзотических видов, явно сбежали из Лондонского зоопарка или странствующих цирков. Одно из наиболее известных его творений называлось «Жирафы, пьющие из фонтанов. Трафальгарская площадь», другое, ещё более скандальное и мрачное — «Стервятники, терзающие умирающего верблюда на Аппер-Беркли-стрит». Там же присутствовала фотография большого холста, над которым он работал несколько месяцев и сейчас выставил на продажу, рассчитывая заинтересовать им какого-либо оборотистого дельца или предприимчивого любителя живописи. Картина называлась «Спящие гиены на Юстон-стэйшн», и тема запустения и отчаяния раскрывалась в ней с такой силой, что, казалось, большего достичь невозможно.
Если его работы и не были отмечены очевидной печатью гениальности, то их тематика была весьма неожиданной, пускай и несколько однообразной. На этих рисунках неизменно изображалась всем известная улица или популярное место в Лондоне, полуразрушенное и населённое, вместо исчезнувших представителей человеческой расы, дикими зверями, которые, судя по разнообразию экзотических видов, явно сбежали из Лондонского зоопарка или странствующих цирков. Одно из наиболее известных его творений называлось «Жирафы, пьющие из фонтанов. Трафальгарская площадь», другое, ещё более скандальное и мрачное — «Стервятники, терзающие умирающего верблюда на Аппер-Беркли-стрит». Там же присутствовала фотография большого холста, над которым он работал несколько месяцев и сейчас выставил на продажу, рассчитывая заинтересовать им какого-либо оборотистого дельца или предприимчивого любителя живописи. Картина называлась «Спящие гиены на Юстон-стэйшн», и тема запустения и отчаяния раскрывалась в ней с такой силой, что, казалось, большего достичь невозможно.
— Да, возможно, это исключительно оригинально, возможно, это эпохальное явление в изобразительном искусстве, — говорила Сильвия Скраббл, обращаясь к кругу избранных слушателей. — Впрочем, возможно, это полнейший бред.
Разумеется, никогда нельзя принимать во внимание только финансовую сторону дела, но если какой-либо коммерсант захочет приобрести его гиен или хотя бы несколько этюдов, обидно будет, что мы недооценили личность мастера и масштаб его работ.
— Быть может, придёт день, когда все мы будем проклинать себя за то, что не купили целиком его папку с этюдами, — сказала миссис Нуга-Джоунс. — Но кругом столько по-настоящему талантливых живописцев, что никому неохота выкладывать десять шиллингов за всякую эксцентричную нелепость. Взять, хотя бы, картину, которую он показывал на прошлой неделе, «Песчаные куропатки, гнездящиеся на мемориале Альберта»; она производит сильное впечатление, чувствуется рука мастера и широта трактовки, но я по-иному воспринимаю мемориал Альберта, и, кроме того, сэр Джеймс Бинкест уверял меня, что песчаные куропатки не вьют гнёзд, а спят прямо на земле.
И каким бы талантом или гениальностью ни обладал померанский художник, коммерчески это, действительно, никак не подтверждалось. Его папка пухла от непроданных этюдов, и «Юстонская сиеста», как прозвали большой холст нюрнбергские остряки, оставалась на рынке. Стали появляться и внешние, очевидные для всех признаки материальных затруднений: полубутылка кларета уступила место стаканчику лагера, а тот, в свою очередь, был заменён водой. Обед, стоивший шиллинг и шесть пенсов, из ежедневной трапезы превратился в воскресное угощение; по будням художник теперь ограничивался омлетом за семь пенсов и хлебом с сыром, бывали вечера, когда он и вовсе не появлялся в ресторане.
А в тех редких случаях, когда он рассказывал о своих делах, всё чаще стала упоминаться Померания и всё реже — мир большого искусства.
— Там сейчас горячее время, — задумчиво говорил он. — После жатвы швайней надо выгонять в поля и присматривать за ними. Будь я там, мои руки пригодились бы. Тут трудно жить; тут не ценят искусство.
— Почему бы вам не съездить домой? — кто-то тактично спросил его.
— О, это дорого! Надо заплатить за дорогу в Столпмюнде и рассчитаться за квартиру. Даже здесь, в ресторане, я задолжал несколько шиллингов. Вот если бы я продал несколько этюдов…
— Вероятно, кое-кто из нас с радостью купил бы их, будь цена пониже, — предположила миссис Нуга-Джоунс. — Сами понимаете, десять шиллингов — немалая сумма для тех, кто отнюдь не купается в деньгах. Вот если бы вы назначили цену в шесть или семь шиллингов…
Перевёл с англ. Андрей КУЗЬМЕНКОВ